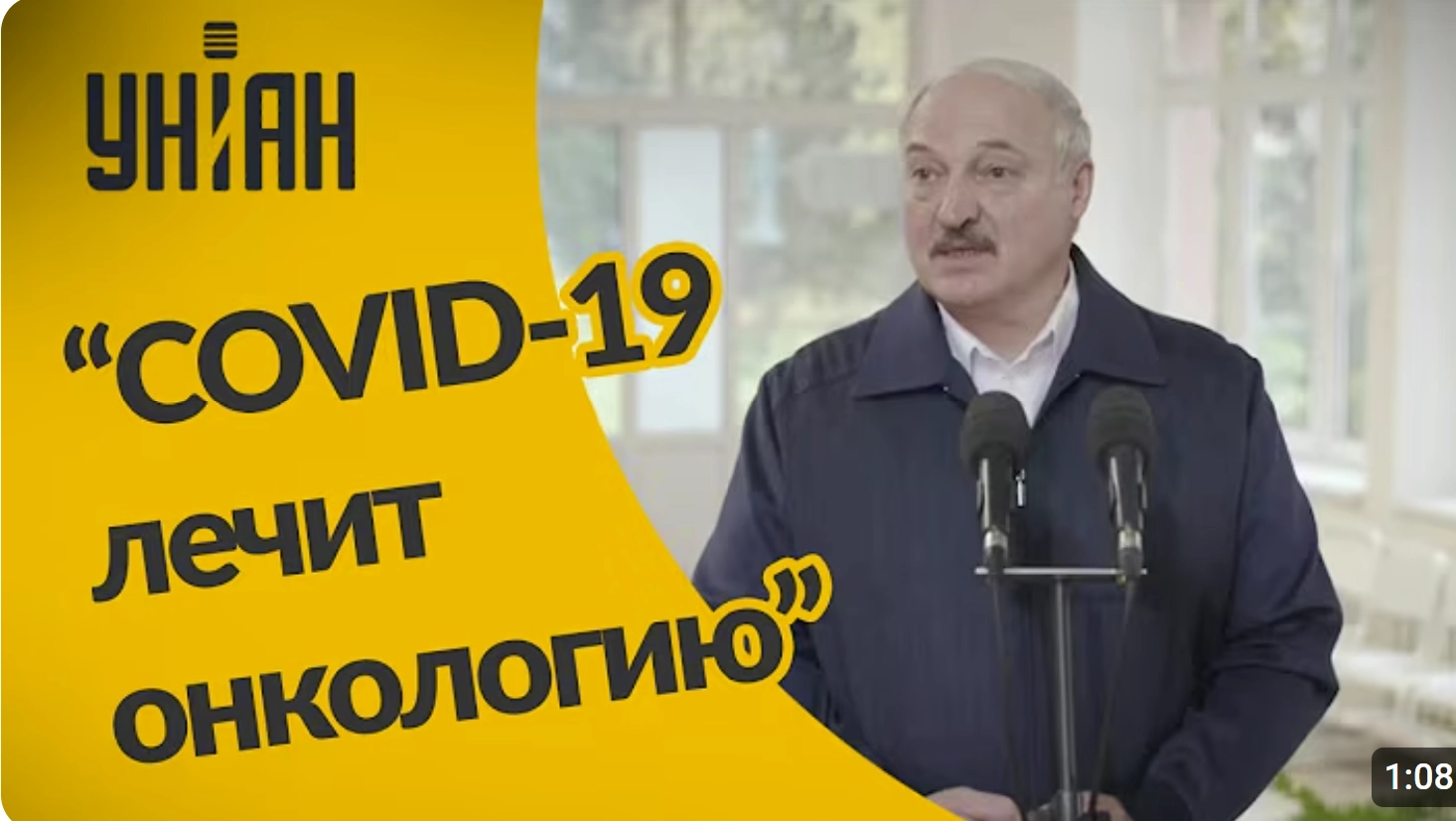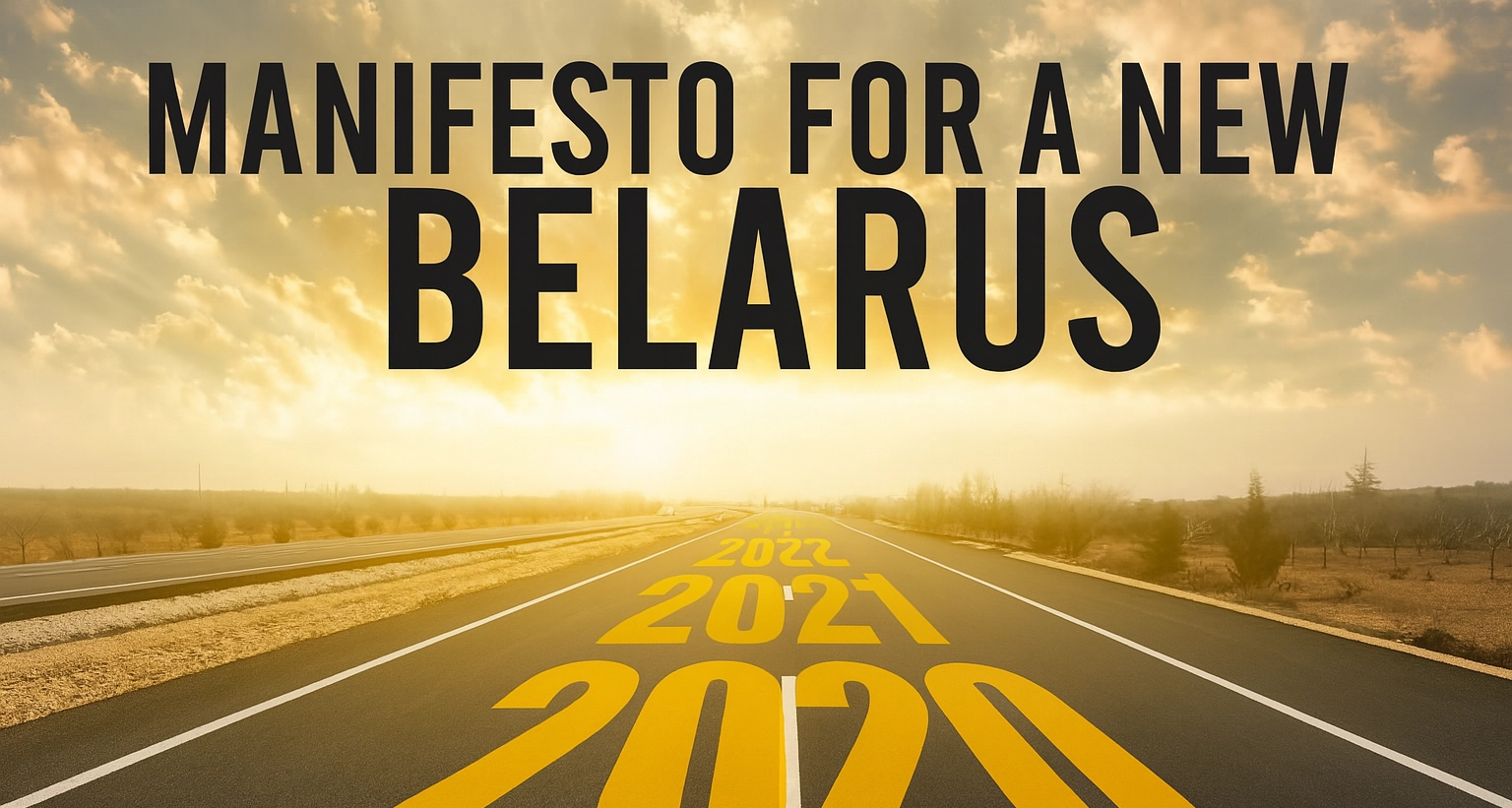В 2020 году весь мир стал свидетелем беспрецедентных событий в Республике Беларусь. Сотни тысяч граждан вышли на улицы, протестуя против фальсификации президентских выборов. В первые три дня после объявления итогов страну захлестнули жестокие столкновения демонстрантов с милицией и ОМОНом. Однако уже вскоре волна насилия неожиданно спала — улицы Минска и других городов наполнили многотысячные мирные марши.

Никогда прежде в постсоветской Европе на улицы не выходило такое количество людей. Демонстрации в Минске собирали, по разным оценкам, от 350 до 500 тысяч участников, а в масштабах страны общее число протестующих приблизилось к миллиону. Это больше, чем когда-либо собирали массовые акции в Варшаве времён «Солидарности» и значительно превосходит по масштабу исторические народные протесты XX века в Вильнюсе, Риге, Праге или Будапеште.
Почему же мирная революция не привела к смене власти?
Важно понять, в какой обстановке находилась Беларусь накануне выборов. Мир переживал состояние информационного и социального паралича, вызванного началом пандемии COVID-19 и периодом глобальной самоизоляции. Пока почти все страны вводили строгие карантинные меры и перенаправляли ресурсы на борьбу с вирусом, в Беларуси официально не признавали ни саму пандемию, ни необходимость реагировать на неё.
В обществе нарастала напряжённость. И дело было не столько в том, что Лукашенко советовал "лечиться водкой, сауной и трактором", что "сыры - это лучшее антиковидное лекарство", заявлял, что "вируса на льду нет" и что " — к его чудачествам давно привыкли.
Лукашенко: "коронавирус лечит онкологию"
Проблема была глубже. Во всём мире государственные средства, собираемые с граждан в виде налогов — в том числе на нужды социальной защиты — были направлены на закупку медицинского оборудования, масок, вакцин. Самое главное — людям и бизнесу компенсировали убытки, вызванные остановкой экономической активности.
В Беларуси ситуация была противоположной. Несмотря на то что совокупные налоги и взносы в ФСЗН достигали до 50% от заработка, государство не считало нужным вернуть гражданам хоть что-то в критический момент. Именно поэтому власти игнорировали саму проблему COVID-19: бюджет уже был проеден — на роскошные резиденции, частные самолёты и другие атрибуты царской жизни, которые к тому времени уже стали притчей во языцах.
Традиционная белорусская оппозиция на протяжении многих лет воспринималась как замкнутая среда, представители которой существовали за счёт внешнего финансирования и не имели никакого профессионального опыта. Это позволяло государственным СМИ позиционировать их как "некомпетентных «грантососов», оторванных от реальной жизни".
Накануне выборов 2020 года они, кстати, получили очередной грант на проведение внутриполитической процедуры праймериз, в ходе которых должен был определиться единый кандидат от оппозиции на предстоящих выборах. Однако инициатива никакого отклика в обществе не вызвала: в голосовании по всей стране приняло участие не более 70 человек. Этот результат отражал кризис доверия к тем, чье существование было исключительно связано лишь с деньгами, получаемые от Западных фондов.
Именно в такой ситуации — при утрате доверия и к власти, и к традиционной оппозиции — в стране начало пробуждаться новое гражданское самосознание. Стали возникать процессы низовой самоорганизации, к которым режим оказался не готов. В отличие от оппозиционных структур, находившихся под контролем спецслужб (регистрация политических партий и возможность проведения собраний были невозможны без наличия в них осведомителей), новая форма активности шла снизу и не поддавалась привычному управлению.
Когда государство отказалось обеспечивать базовые санитарные условия — маски, мыло, дезинфекторы — граждане стали самостоятельно решать эти задачи. Люди начали сами шить маски, активизировались родительские советы, которые стали закупать в школы средства гигиены, которые отсутствовали в учебных заведениях. Возникали волонтёрские команды, приносившие медикам питьевую воду, еду и кофе. Эти инициативы не имели политической окраски, но приобрели огромное мобилизационное значение. Их спонтанность, массовость и отсутствие централизованного руководства делали их неподконтрольными государству — в отличие от немногочисленных политических групп, находящихся под постоянным контролем спецслужб.
Объявление о выборах.
8 мая 2020 года, в разгар пандемии, власти объявили о проведении досрочных президентских выборов. Ставка была сделана на то, чтобы максимально «засушить» кампанию и ограничить участие реальных альтернативных кандидатов.
Центральная избирательная комиссия под руководством Лидии Ермошиной — многолетнего организатора электоральных фальсификаций — в нарушение Конституции Республики Беларусь и Избирательного кодекса сократила предусмотренные законом сроки избирательной кампании с пяти до трёх месяцев. Это решение особенно сильно ударило по этапу формирования инициативных групп: вместо двух месяцев на их регистрацию было отведено чуть более одной недели.
По закону, для регистрации кандидат должен был собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. При этом подписи могли собирать только члены официально зарегистрированной инициативной группы, получившие удостоверения от ЦИК. Режим рассчитывал, что за одну неделю ни один независимый кандидат не сможет собрать необходимое количество волонтёров. В условиях пандемии ставка делалась и на страх людей: предполагалось, что многие из опасения заразиться вирусом попросту не будут открывать двери сборщику подписей.
Лукашенко идет на выборы.
Как и в предыдущие кампании, Лукашенко не собирался проходить предусмотренную законом процедуру сбора подписей. Руководителем своего избирательного штаба он назначил Михаила Орду — председателя Федерации профсоюзов Беларуси, полугосударственной структуры, членство в которой является обязательным для работников всех государственных предприятий.
Накануне выборов, под угрозой проверок и штрафов, эмиссары Лукашенко активизировались, требуя создания профсоюзных ячеек уже на частных предприятиях. Для этого был задействован Декрет № 4, который заложил юридическую основу для обязательного формирования профсоюзных организаций во всех трудовых коллективах — независимо от формы собственности. Особенно активны профсоюзные функционеры были в Парке высоких технологий, где располагались крупнейшие в Беларуси частные компании, многие из которых насчитывали по несколько тысяч сотрудников.
Цель Декрета № 4 заключалась в распространении механизма государственного надзора на работников частного сектора по той же логике, по которой контролировались политические партии и общественные объединения. Если деятельность последних уже давно регулировалась и отслеживалась спецслужбами, то новая система профсоюзных ячеек позволяла аналогично охватить и экономические субъекты.
Задача Орды заключалась в том, чтобы, минуя традиционную процедуру сбора подписей — без обхода квартир и установки пикетов на улицах, — передать в Центральную избирательную комиссию готовые списки членов профсоюзов, которые автоматически засчитывались как граждане, якобы поддержавшие выдвижение Лукашенко.
Такой подход позволял избежать открытых форм взаимодействия с населением, которые могли бы наглядно продемонстрировать отсутствие поддержки действующего президента на низовом уровне. Более того, сборщики подписей за Лукашенко рисковали столкнуться не столько с равнодушием, сколько с открытым пренебрежением, оскорблениями и категорическими отказами ставить подпись.
Схема с использованием профсоюзных списков сводила эти риски к нулю. Она была направлена не столько на создание иллюзии массовой поддержки, сколько на предотвращение деморализации актива — тех, кто собирая за Лукашенко подписи мог бы лично убедиться в отсутствии его реальной поддержки среди избирателей.
А это, в свою очередь, могло бы волнами распространиться и на силовой блок, которому стало бы сложнее внушать, будто за желанием перемен стоит не народ, а некая «пятая колонна» — «отморозки», «спекулянты» и «жулики». Это также осложнило бы задачу навязывания нарративов о коварных заговорах Запада, который якобы хочет сменить власть в Беларуси из зависти к «нашей чистоте и порядку».
8 мая 2020 года.
В тот же день, когда в Беларуси было официально объявлено о проведении президентских выборов, уже к вечеру я заявил о своём намерении баллотироваться на высший государственный пост. Это было решение, вызревшее из понимания того, что страна стоит перед историческим выбором — между стагнацией и обновлением, между прошлым и будущим.
Я никогда не отделял себя от белорусской государственности. Как только распался Советский Союз, я тут же принял решение вернуться в независимую Беларусь, чтобы помогать строить ее независимую внешнюю политику: работал в отделе разоружения МИД, потом советником первого главы независимой Беларуси Станислава Шушкевича, затем - старшим советником в Исполкоме СНГ, занимал пост первого заместителя министра иностранных дел, был чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в США. Однако главным делом своей жизни я считал создание Парка высоких технологий, который стал крупнейшим ИТ-кластером в Центральной и Восточной Европе.


На фоне институциональной и правовой неопределённости, без доступа к госбюджету, мне удалось построить инновационную экосистему мирового уровня. Парк стал не только точкой притяжения для глобальных технологических гигантов, но и родиной для сотен успешных стартапов, прославивших Беларусь на международной арене. Об этом писали Financial Times, The Washington Post, Bloomberg, Euronews — как об исключительном примере того, как даже в авторитарной системе может прорасти островок прогресса.
К 2020 году ПВТ объединял около 500 компаний, экспортировал услуги на сумму более 2 миллиардов долларов и стал символом возможного будущего Беларуси. И именно этот успех сделал меня неудобным для режима. Когда начались репрессии против ИТ-предпринимателей, я не промолчал. Публично выступил против арестов Виктора Прокопени и топ менеджмента IBA, потребовал отмены статьи УК о «незаконной предпринимательской деятельности» — советского атавизма, разрушавшего доверие к стране.
Моя открытая позиция привела к конфликту с тогдашним Генеральным прокурором Александром Конюком и, в итоге, к моей отставке. Но я тогда увидел, что мои идеи нашли в обществе отклик. Люди в этом конфликте стали на мою сторону. Поэтому 8 мая 2020 года, вместе с заявлением о выдвижении, я опубликовал Манифест Новой Беларуси — документ, в котором кратко изложил программу перемен.
Выбор без привычных партий
Уже 11 мая, то есть через три дня после моего заявления, объявил о своём участии в выборах и Виктор Бабарико. Руководитель Белгазпромбанка, меценат, интеллектуал, человек с репутацией, далёкой от оппозиционной борьбы. Бабарико финансировал культурные проекты, вернул в Беларусь полотно Хаима Сутина, поддержал создание краудфандинговой платформы MolaMola, которая в разгар пандемии стала существенной опорой для медицинской системы.


Наше появление оказалось неожиданным для режима: мы не были частью традиционной оппозиции, которую умело дискредитировали, показывая ее неспособность к каким бы то ни было конструктивным действиям. Мы не говорили лозунгами, но зато за нами стояла реальная история успеха - в бизнесе, в государстве, в культуре.
Голос глубинки: Сергей Тихановский
Сергей Тихановский — блогер и активист, человек без должностей и регалий, но с огромной внутренней силой и подлинной связью с людьми. Его YouTube-канал «Страна для жизни» стал для многих окном в реальность: он ездил по белорусской глубинке, давал слово тем, кого никто не слышал, разрушал лоск официальной витрины и показывал страну без прикрас. Его язык был прост, но прям и понятен простому человеку. Он был голосом разочарованной провинции — той, которая до последнего момента верила телевизору.


Самое главное Сергей доказал, что протест — это не удел столичных активистов. Это всенародное стремление к жизни без страха и унижения.
Мы не были союзниками, у нас были разные биографии, и мы представляли собой три разных подхода. Но вместе мы стали отражением нового запроса общества: Беларусь достойна лучшего будущего. Впервые за долгие годы мы представили белорусам выбор — не между прошлым и прошлым, а между прошлым и будущим. И именно это стало началом революции.
Продолжение следует