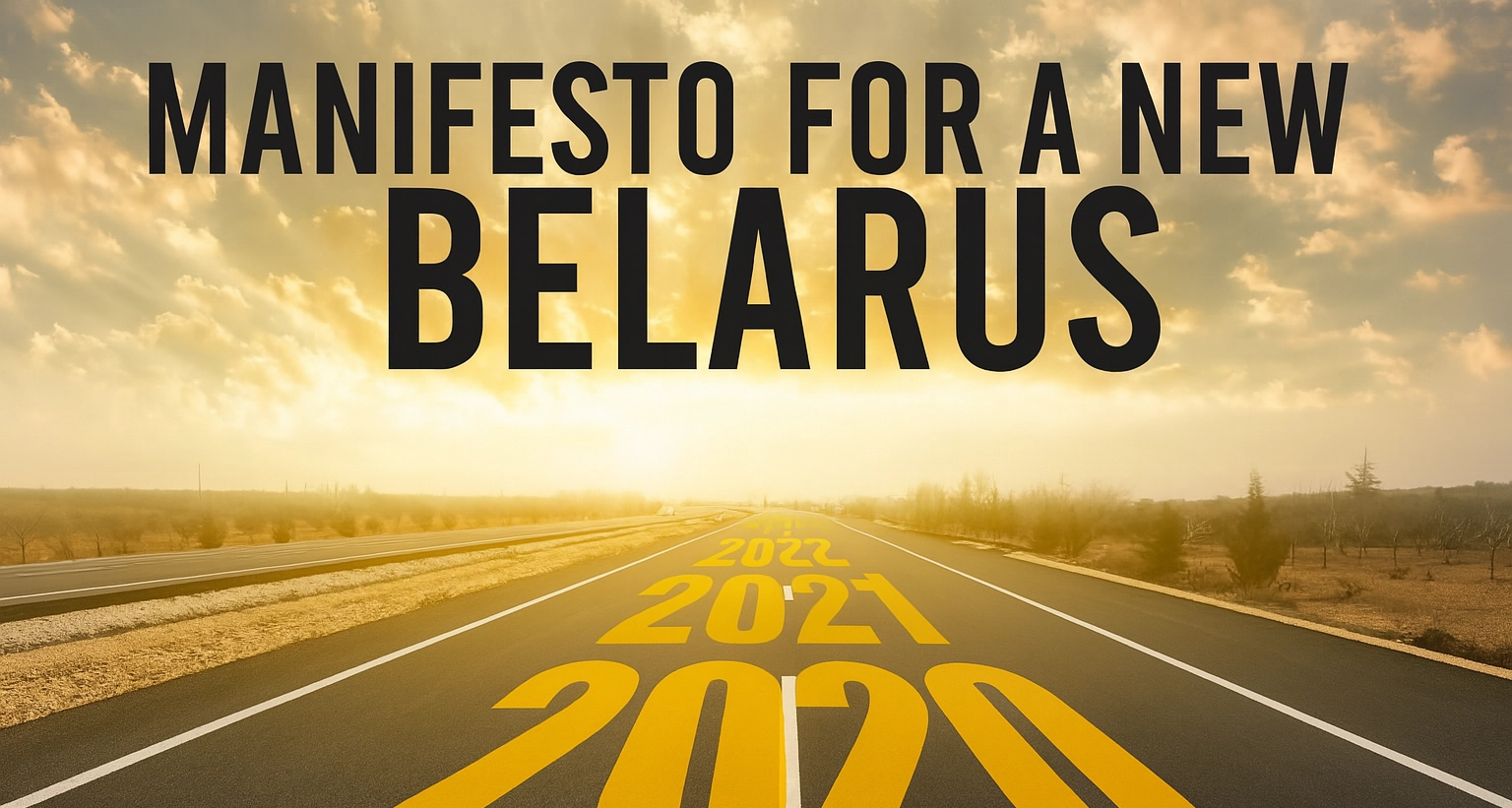К началу кампании 2020 года оформилась тройка основных конкурентов режима Лукашенко на предстоящих выборах. Двое из них — я и Виктор Бабарико — представляли собой новое поколение лидеров, имеющий опыт государственного управления, взаимодействия с межправительственными организациями и зарубижными финансовыми структурами. За нашей спиной стоял успешный опыт реализации ряда крупных проектов. Сергей Тихановский был голосом глубинного народа, которого поддерживали те, кто терпел унижение и бедность, кто постоянно слышал от Лукашенко в свой адрес оскорбления типа «вшивые блохи», «мерзавцы», «пиявки» и «подонки».
Формирование актива
Начало кампании не предвещало для режима серьёзных проблем. Избирательные правила были устроены таким образом, чтобы блокировать участие независимых кандидатов ещё на этапе регистрации.
Для выдвижения в качестве кандидата необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей граждан. Причём делать это могли исключительно члены официально зарегистрированной инициативной группы. Однако Центральная избирательная комиссия, грубо нарушив Конституцию и обойдя нормы Избирательного кодекса, который отводил на формирование таких групп два месяца, предоставила на это всего одну неделю.
Исключение Тихановского
Даже несмотря на такие административные препоны, власти решили дополнительно перестраховаться, исключив Сергея Тихановского из кампании на самом раннем этапе. Формальным основанием стали его предыдущие административные аресты за резонансные видеорепортажи. Именно в тот момент, когда нужно было подавать документы на регистрацию инициативной группы, Тихановский вновь оказался в изоляторе.
Чтобы сохранить возможность участия в кампании, Сергей предложил выдвинуться своей супруге — Светлане. Домохозяйка, ранее нигде не работавшая и не проявлявшая интереса к общественной или политической жизни, по собственным словам, до того момента считала своим главным достижением умение «жарить котлеты». По словам самого Сергея, она даже не интересовалась тем, чем он занимается.
Для Сергея Тихановского это решение носило скорее технический характер. Он рассчитывал, что статус Светланы как кандидата позволит ему легально организовывать пикеты, собирать подписи и общаться с людьми. Сам он был зарегистрирован как руководитель штаба и глава инициативной группы, что формально давало ему возможность вести публичную кампанию.
Опыт предыдущих президентских кампаний показывал: для того, чтобы реально собрать сто тысяч подписей, необходимо как минимум тысяча активистов. Одной недели для формирования такого актива было явно недостаточно.
В итоге инициативная группа Светланы Тихановской, полностью состоявшая из сторонников Сергея, насчитывала всего около 100 человек — слишком мало для прохождения установленного барьера.
Группа Цепкало
За одну неделю нам удалось сформировать инициативную группу численностью 850 человек. Формально такого количества участников могло хватить для сбора 100 тысяч подписей, но только при условии максимальной мобилизации — ежедневной работы без выходных в течение всего месяца. В условиях пандемии COVID-19, санитарных ограничений и административного давления это представлялось крайне непростой задачей. Руководителем моего штаба стал Андрей Ланкин — менеджер компании Wargaming, одного из резидентов Парка высоких технологий.
Рекорд Бабарико
Неожиданностью для всех стал подход, который применил Виктор Бабарико. Руководителем его штаба стал сын — Эдуард Бабарико, специалист по социальным сетям и цифровым платформам. Вместо традиционного способа формирования актива через написание личных заявлений, как это делали, например, мы, команда Бабарико задействовала краудфандинговую платформу, которой ранее управлял Эдуард. Благодаря этому удалось быстро, массово и с минимальными бюрократическими барьерами — например, форма заявления уже была заранее заготовлена и готова к использованию — привлекать сторонников по всей стране.
Кроме того, Виктор Бабарико, как глава крупного банка, располагал ресурсами для оперативного развёртывания широкой информационной и рекламной кампании. В результате ему удалось всего за неделю собрать инициативную группу численностью 8900 человек — абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в Беларуси. Для сравнения: в предыдущие кампании за два месяца кандидатам обычно удавалось привлечь от одной до полутора тысяч активистов.



Регистрация инициативных групп кандидатов в президенты в ЦИК.
Старт и искусственные барьеры
Регистрация инициативных групп официально ознаменовала старт избирательной кампании 2020 года. Тут выяснилось, что многие вступили в инициативные группы эмоционально, без понимания того, насколько эта работа требовала полной самоотдачи на протяжении как минимум месяца. Это снижало стартовую эффективность и создавало для независимых штабов серьёзные организационные риски.
Изменившаяся среда сбора подписей
В предыдущих кампаниях сбор подписей шёл в основном через поквартирные обходы. Но к 2020 году почти во всех домах уже стояли домофоны, что существенно осложнило вход в подъезды. Для власти это стало дополнительной линией защиты — технологическим барьером, который, вместе с административными препонами, должен был еще более затруднить сбор подписей для альтернативных кандидатов и «засушить» кампанию.
Новая тактика сбора подписей
В этих условиях я принял решение полностью отказаться от традиционного поквартирного обхода. Вместе со своей супругой Вероникой мы решили лично выезжать в регионы и проводить уличные пикеты с собственным участием, чего до нас на этом этапе кампании почти никто из претендентов не делал. Ставка в предыдущих компаниях на этом этапе, еще раз подчеркну, делалась преимущественно на поквартирный обход.
Объясняется это тем, что избирательный закон запрещал кандидатам на этапе сбора подписей открыто агитировать за себя. Этот парадокс приводил к абсурдному положению: граждан приходилось призывать ставить подписи в поддержку претендентов, что могли делать члены инициативной группы. Сам же кандидат фактически не имел права объяснять, кто он такой, какие его взгляды и цели. Любая попытка обозначить свою позицию могла быть истолкована Центральной избирательной комиссией как форма агитации и стать основанием для снятия с дистанции. Это был ещё один административный барьер, искусственно выстроенный Лукашенко для ограничения доступа к людям независимых кандидатов. Сам он, разумеется, от этих ограничений был свободен — продолжал активно озвучивать свои намерения под видом исполнения государственных полномочий.

На пикетах я общался с гражданами непосредственно у столов сборщиков подписей.

Закон позволял одному человеку поддержать сразу нескольких претендентов — ведь на этом этапе речь шла не о голосовании, а лишь о допуске к регистрации. Эту возможность я решил использовать как юридическую зацепку, чтобы минимизировать риск обвинений в агитации. На всех митингах, организованных нашей командой, я стал публично призывать ставить подписи за всех — за Виктора Бабарико, Светлану Тихановскую и Андрея Дмитриева.
Например, на митинге в Барановичах, где мы с Дмитриевым оказались в один и тот же день буквально на одной площади, я призвал присутствующих поддержать и его выдвижение — несмотря на то, что в тот момент у многих его участие вызывало вопросы: воспринимать ли его как независимого кандидата или как возможного технического спойлера. Тем не менее, я последовательно выступал за политическую конкуренцию и настаивал на равных возможностях для всех.
Почти на каждом пикете я стал цитировать одну известную фразу, приписываемую императору Китая Цинь Шихуанди, объединившему под своим руководством страну, и ставшую широко известной благодаря Мао Цзэдуну: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ мысли». Этим лозунгом лидер Коммунистической партии Китая сопровождал краткий период культурной либерализации в 1956–1957 годах, последовавший за ХХ съездом Коммунистической партии Советского Союза, разоблачившим культ личности Сталина.
Для меня эта фраза стала не только символом политического плюрализма — идеи конкуренции, множества голосов и права выбора, — но и своего рода юридическим щитом. Я ведь не агитировал голосовать за себя — я публично выступал за равный допуск всех, включая и самого Лукашенко. Только народ, «а не бог, ни царь и не герой», должен решать, чья программа ему ближе, кого он считает способным реализовать свои ожидания. На митингах я призывал: «Подпишись за Лукашенко — дай ему возможность поучаствовать в выборах».
Разумеется, в этом заключалась ирония. Я прекрасно знал, что по всей стране не было организовано ни одного полноценного пикета в поддержку Лукашенко — если не считать пары инсценированных случаев, когда наспех разворачивались палатки, проводился формальный сбор подписей с участием, как правило, специально привезённых из провинции работников Белкоопсоюза, и тут же всё сворачивалось.
Работники Белкоопсоюза всегда составляли самый надёжный и управляемый актив Лукашенко. Именно их систематически использовали для участия в организованных акциях, где необходимо было создать картинку «массовой поддержки» режима — на выборах, референдумах, праздничных митингах. Заведующие сельскими магазинами, снабженцы, водители, бухгалтеры и другие сотрудники потребкооперации — это была, по сути, социальная элита умирающей деревни. На фоне обнищания сельского хозяйства, разрушения инфраструктуры и тотальной депопуляции деревни, именно они сохраняли хоть какую-то стабильность и уровень дохода.
В отличие от городских жителей, у которых всё же оставалась некоторая мобильность — возможность устроиться в частную фирму, сменить профессию, уехать в другой город или страну — сельский работник Белкоопсоюза такой альтернативы не имел. В радиусе десятков километров чаще всего просто не существовало других источников дохода. А потеря должности в системе потребкооперации означала не просто безработицу, а полную социальную дезинтеграцию: ни пособий, ни новых вакансий, ни возможности выехать.
В глазах власти эта категория была удобна: не слишком образованная, экономически зависимая, территориально изолированная и предсказуемо лояльная. Поэтому неудивительно, что именно их чаще всего грузили в автобусы, вывозили на массовки, раздавали плакаты и лозунги, а затем — развозили обратно по домам.
Во избежание эксцессов подписи за выдвижение Лукашенко не собирались — власть отлично понимала: накопившаяся в народе ненависть к диктатору неизбежно экстраполировалась бы на тех, кто оказался бы у столов для сбора подписей в его поддержку. Их ожидали бы оскорбления, унижения, плевки в их сторону, высыпанный на столы мусор — всё то, с чем они неизбежно столкнулись бы при прямом контакте с униженными и оскорблёнными людьми.
Поэтому вместо реального сбора подчинённая Лукашенко Федерация профсоюзов во главе с Михаилом Ордой просто передала в ЦИК заранее подготовленные списки своих членов. И все три миллиона человек автоматически были засчитаны как якобы поддержавшие его выдвижение.
Рост массовости
На первых встречах к нам подходило совсем немного людей — в Лиде около десяти человек, в Гродно около сорока. Для властей это, вероятно, выглядело обнадёживающе: казалось, страх и апатия по-прежнему парализуют общество. Но с каждой новой встречей всё менялось. Люди становились смелее, начинали воспринимать участие в пикетах как шанс повлиять на политическую ситуацию в стране.
Ключевую роль сыграли социальные сети: именно через них распространялась информация о времени и месте встреч. Сначала на пикеты приходили десятки, затем сотни, а вскоре и тысячи человек. Очереди, выстраивавшиеся к столам сборщиков подписей, стали символом пробуждающейся гражданской активности.
Стратегия Бабарико
Именно на широкое присутствие в цифровой среде сделал ставку Виктор Бабарико. Его штаб активно работал в Telegram, Instagram, YouTube — именно там формировалось ядро волонтёров и сторонников, прежде всего в городах.
Серьёзным фактором его успеха стали ресурсы: штаб имел возможность оплачивать логистику, производить агитационные материалы, организовывать точки сбора подписей, компенсировать труд сборщиков. Использовалась комбинированная модель: с одной стороны — поквартирные обходы, с другой — уличные пикеты с визуальным оформлением и узнаваемым брендом. Это обеспечивало стабильность работы даже после ареста самого кандидата.
На начальном этапе Виктор избегал участия в открытых пикетах — вероятно, чтобы снизить риск быть обвинённым в агитации, что могло бы послужить формальным основанием для снятия с кампании. Вместо этого он участвовал в закрытых встречах, где обсуждал системные проблемы страны. Для людей само его присутствие – либо физическое, либо виртуальное - становилось достаточным основанием для поддержки.

Позже он начал включаться и в публичные встречи с избирателями, но развернуть этот формат в полном объёме не успел…
Комаровка
Сергей Тихановский включился в кампанию сразу после очередного административного ареста, когда инициативная группа уже была зарегистрирована на имя Светланы Тихановской. Первую масштабную акцию он провёл на Комаровском рынке в Минске, одном из самых людных мест города.
Креативный подход, предложенный Сергеем, принципиально отличался от стратегий, выбранных другими кандидатами. Если мы с Виктором Бабарико стремились донести до избирателей позитивный образ будущей, демократической Беларуси — я рассказывал о конкретных планах реформ в области налогообложения, здравоохранения, образования, развития транспорта и связи, — то Виктор выдвинул концепцию так называемой «выученной беспомощности». Под этим он понимал состояние внутренней капитуляции, в котором оказалась значительная часть общества, особенно — государственные служащие. Именно они, по его мнению, являлись самой запуганной, но одновременно и самой важной прослойкой: от их действий — или, напротив, пассивности — во многом зависел исход кампании. Его цель состояла в том, чтобы пробудить у чиновников чувство гражданской ответственности и показать им, что страх — это не природное состояние, а результат системного давления, которому можно сопротивляться.
Центральным же элементом кампании Сергея Тихановского стал образ таракана — прямая аллюзия на сказку Корнея Чуковского «Тараканище», где ничтожное, но усатое насекомое своей крикливостью и самоуверенностью подчиняет себе всех зверей. Эта метафора оказалась чрезвычайно живой, наглядной и заразительной: она говорила с людьми на эмоциональном уровне, превращая протест в форму народного эпоса.

В сказке Корнея Чуковского рассказывается, как среди зверей, птиц и насекомых царит веселье, пока не появляется маленький усатый таракан. Он пугает всех своим грозным криком: «Я вас, я вас, проглочу!», и животные, включая слонов и медведей, в страхе ему подчиняются. Лишь в финале появляется неприметный воробей, который одним ударом клюва уничтожает самозваного тирана.
В интерпретации Тихановского Лукашенко стал именно таким тараканом — маленьким, но сумевшим запугать всю страну. Этот образ оказался невероятно популярным и легко воспринимаемым. Он быстро распространился: появились карикатуры, граффити, мемы, в которых Лукашенко изображался как таракан с характерными усами.
Единственным способом избавиться от него стал удар тапком.
На пикет у Комаровского рынка Тихановский принес тапки — как символический инструмент избавления от страха и сопротивления режиму. Так кампания вышла за рамки простого сбора подписей и превратилась в своего рода уличный перформанс, в яркий символический бунт. Именно эта форма выражения протеста особенно бесила Лукашенко.
Как известно, диктаторы чаще всего боятся не обвинений в коррупции, жестокости или даже массовых репрессиях — с ярлыками «кровавый», «жестокий», «людоед» они готовы жить, это даже усиливает их пугающий имидж. Но когда их превращают в объект насмешек, в карикатуру — рушится их искусственно выстроенный миф. Пропадает образ великого и грозного.
Продолжение следует