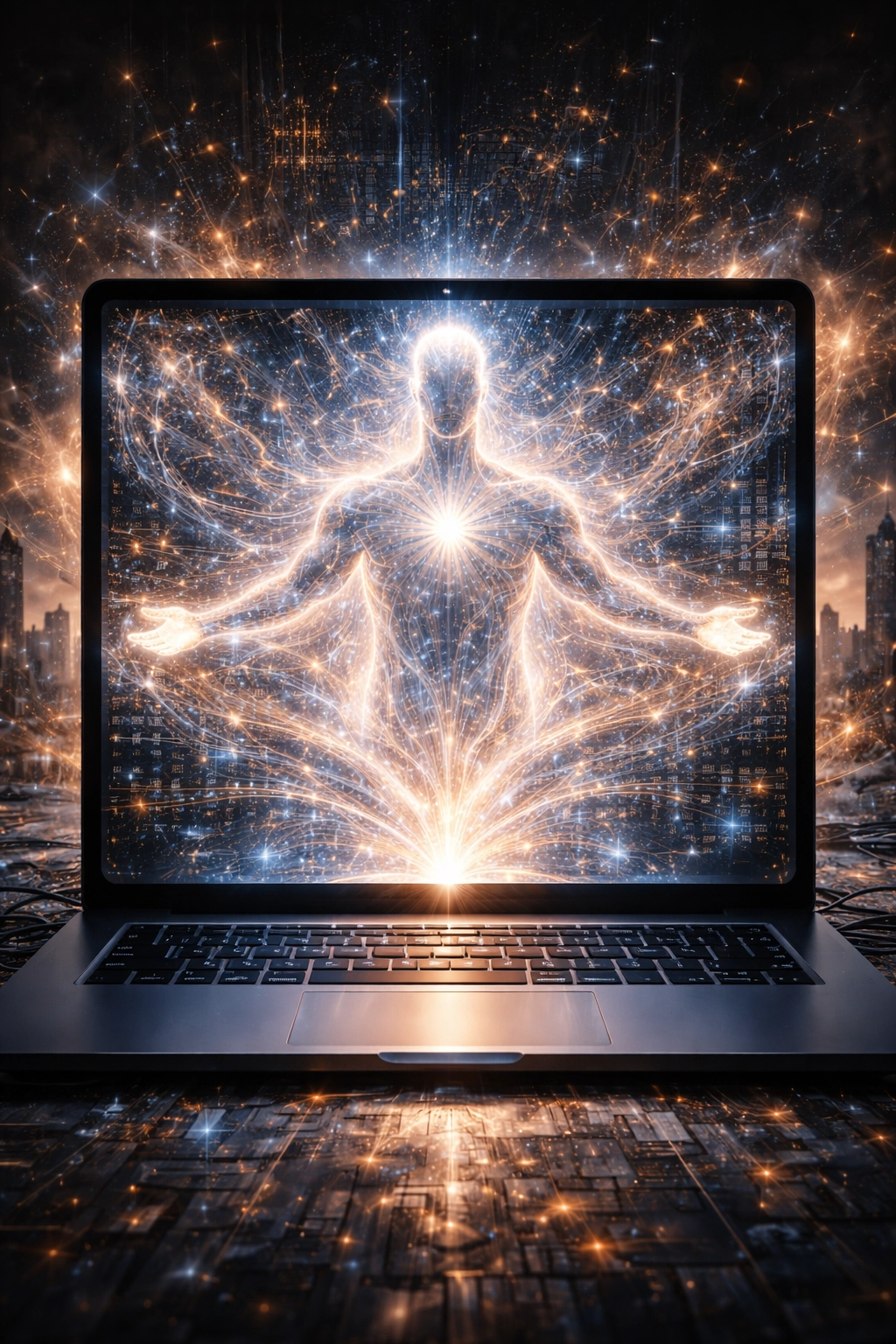📍Появление Марии Колесниковой
Именно в тот момент, когда Светлана Тихановская заявляет, что будь у неё 900 тысяч долларов, ни она, ни Сергей Тихановский не боролись бы за какие-то там права белорусского народа, — в информационном поле появляется другая фигура, которой суждено сыграть ключевую роль в последующих событиях. Это — Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико.
В своём видеозаявлении Колесникова обращается не к протестующим и не к сторонникам оппозиции, а к тем, кто, как правило, предпочитает молчать — к белорусской номенклатуре: чиновникам, силовикам, госслужащим всех уровней.

Она развивает мысль, впервые публично озвученную самим Бабарико: о «заученной беспомощности» — глубинной психологической установке, десятилетиями формировавшейся в белорусском обществе и особенно в его элитах. Установке, призванной отучить человека думать самостоятельно, принимать решения и нести личную ответственность.
Это было первое прямое обращение к совести системы. К тем, кто годами оправдывал бездействие служебной лояльностью или страхом перед начальством.
Колесникова напомнила: страх — не единственное чувство, которым может руководствоваться человек во власти. Есть и другие — достоинство, честь, вера в страну.
Но чтобы по-настоящему осознать, какое значение имели тогда её слова — слова, которые, признаюсь, произвели на меня большое впечатление и стали причиной моего звонка Марии с предложением объединиться и продолжить кампанию, уже после того как и мне, и Виктору отказали в регистрации, — нужно на мгновение остановиться. И сделать шаг назад: к тому моменту, когда кампания ещё шла. Когда Виктор был на свободе.
Виктор стал голосом культурной Беларуси. Человеком, возвращающим на родину утерянные произведения живописи.
Его политика была лишена агрессии, популизма, высокомерия. Он говорил спокойно, с уважением — и именно этим резко выделялся на фоне риторики унижения и грубости, десятилетиями льющейся с экранов госпропаганды.
Он не отвечал в том же тоне. И тем самым предлагал обществу другой язык — спокойный, уважительный, основанный на достоинстве и культуре. Неудивительно, что его кампания привлекла внимание многих представителей творческой интеллигенции.
Среди них была и Мария Колесникова — профессиональный музыкант, флейтистка, с опытом международных выступлений и признанием в музыкальной среде. Её участие в штабе стало логичным продолжением того культурного вектора, который задавал сам Виктор.
Кампания Бабарико была новаторской не только по содержанию, но и по форме. Социальные сети, краудфандинг, открытая цифровая инфраструктура, за многие элементы которой отвечал его сын Эдуард. Но и сам Виктор быстро вышел из онлайн-формата — он начал встречаться с людьми.
Я не скажу, что он пошёл «по моим стопам» — когда я начал ездить по регионам, — или последовал за Сергеем, выбравшим на старте наиболее радикальный тон.
Хоть хронологически это могло выглядеть именно так, но я уверен: это было его собственное, зрелое решение. Ведь в честной политике просто нет другого пути. Если ты действительно хочешь вести настоящую кампанию, если хочешь действительно чувствовать энергетику простых людей — тебе придётся выйти из кабинета и войти в жизнь. Не бояться острых вопросов. Не прятаться за охраной и суфлёрами.
Общение с западными дипломатами и политиками — это отдельный жанр. Он предполагает выверенные формулировки, осторожные оценки, ритуальную благодарность. Для многих представителей белорусской оппозиции этот формат давно стал самоцелью — и фактически подменил собой любую другую форму политической деятельности.
Собеседники за рубежом, как правило, задают аккуратные вопросы, стараются не задеть, в ответ ждут подтверждения приверженности «общим ценностям» — и ссылок на успешные отчёты. Так сформировалась система, в которой диалог ведётся не по линии политической ответственности, а по линии грантовой совместимости.
Но как только разговор смещается в реальное поле — к живым людям внутри Беларуси — всё меняется. Потому что подлинное общение с обществом требует не дипломатического протокола, а личного риска, присутствия и открытости.
Пример 2020 года показателен. Восемь представителей оппозиции при поддержке европейских грантов организовали так называемые «масштабные праймериз», в которых участвовало... всего около 70 (!) человек.
Однако, когда пришло время идти на выборы — не пошёл никто.
Франак Вячорка, один из организаторов, позже откровенно признал, почему сам не стал участвовать, высказав общее мнение: «Могут стрельнуть…». Другими словами — просто испугался.
Он предпочёл наблюдать за событиями из-за границы, откуда — уже в знакомом формате возобновил привычную деятельность: вместе со своим другом Стрижаком и другими — вновь осваивать многомиллионные гранты, выступать на конференциях, давать интервью, рассуждать о том, как «развивать гражданское общество».
Но гражданское общество формировалось не на конференциях — а здесь, в Беларуси. Формировалось нами. Без гонораров. Без протоколов. Без грантов. Без охраны. Через прямое, личное общение с простыми людьми. С риском для свободы и жизни.
У Сергея Тихановского прямой опыт общения с людьми был. Он начал свою политическую кампанию задолго до её официального старта — с буквального «хождения в народ». Собственно, это и было главным смыслом его деятельности: открытое общение с обычными людьми, с теми, кого в американской политической традиции называют grassroots — людьми «на уровне корней травы».
У меня тоже был опыт общения с людьми — но в основном это были представители ИТ-сектора: руководители компаний, программисты, студенты, преподаватели, школьники и их родители. Я убеждал их идти в ИТ ещё задолго до того, как эта профессия стала выглядеть очевидно выгодной. Но массового, открытого диалога с людьми «на земле» у меня не было.
Именно поэтому с первого дня после регистрации я сознательно решил поехать в глубинку — в малые и средние города. Чтобы по-настоящему понять, чем живёт и дышит белорусская глубинка. Начал общаться с людьми, слушать их боли и надежды...
Виктору в этом смысле, наверное, было сложнее всего. Его прежний опыт — с культурной элитой, с бизнесом — был иным по своей сути. Но и он мужественно шагнул в этот омут, понимая: без живого общения с людьми невозможно строить подлинную политику. Потому что настоящая политика — это не стерильное ток-шоу, которые мы видим сегодня, и где звучат только заранее согласованные реплики. Это — живой, открытый, порой трудный, но честный диалог.
📸 Фотографии, которые я публикую, — это не просто хроника, возвращающая нас назад. Это напоминание о том, откуда начинается тот поток, который позже подхватит «женское трио» — и который перерастёт в самое массовое народное движение в Европе после Второй мировой войны.
Но это и часть другой истории — о том, как невиданный духовный подъём был предан и дискредитирован теми, кто поставил свои личные интересы и финансовые доходы за границей выше интересов белорусского народа.



Виктор Бабарико, начало кампании



Прерванный полет Виктора Бабарико



Кампании в регионах
Он временно ушёл с политической арены, но не исчез из нашей памяти, так как был один из первых, кто мужественно, рискуя свободой и жизнью, бросил вызов бесчеловечному режиму.
Его имя мы обязаны хранить как конкретное воплощение достоинства — того самого, которое сегодня вытеснено из белорусской политики звоном золотых монет и пустыми речами, зачитываемыми с суфлёров.
Его история не завершена — она лишь приостановлена.
Его голос сегодня заглушён не только врагом, но и теми, кто оказался неспособен на поступок. Теми, кто может лишь комментировать события из-за границы, прячась за безопасностью, охраной и статусом. Теми, кто струсил бросить открытый вызов, оказавшись лишь способным лишь на подвывание из-за угла — имитируя борьбу, не рискуя ничем.
Но Беларусь проснётся. И в тот момент, когда ей снова понадобятся не километры пустословия, а честные, сильные, с внутренним стержнем люди — страна призовет его.
Потому что такие, как Виктор Бабарико, нужны не только в минуты надежды. Они нужны в час возрождения.
Продолжение следует