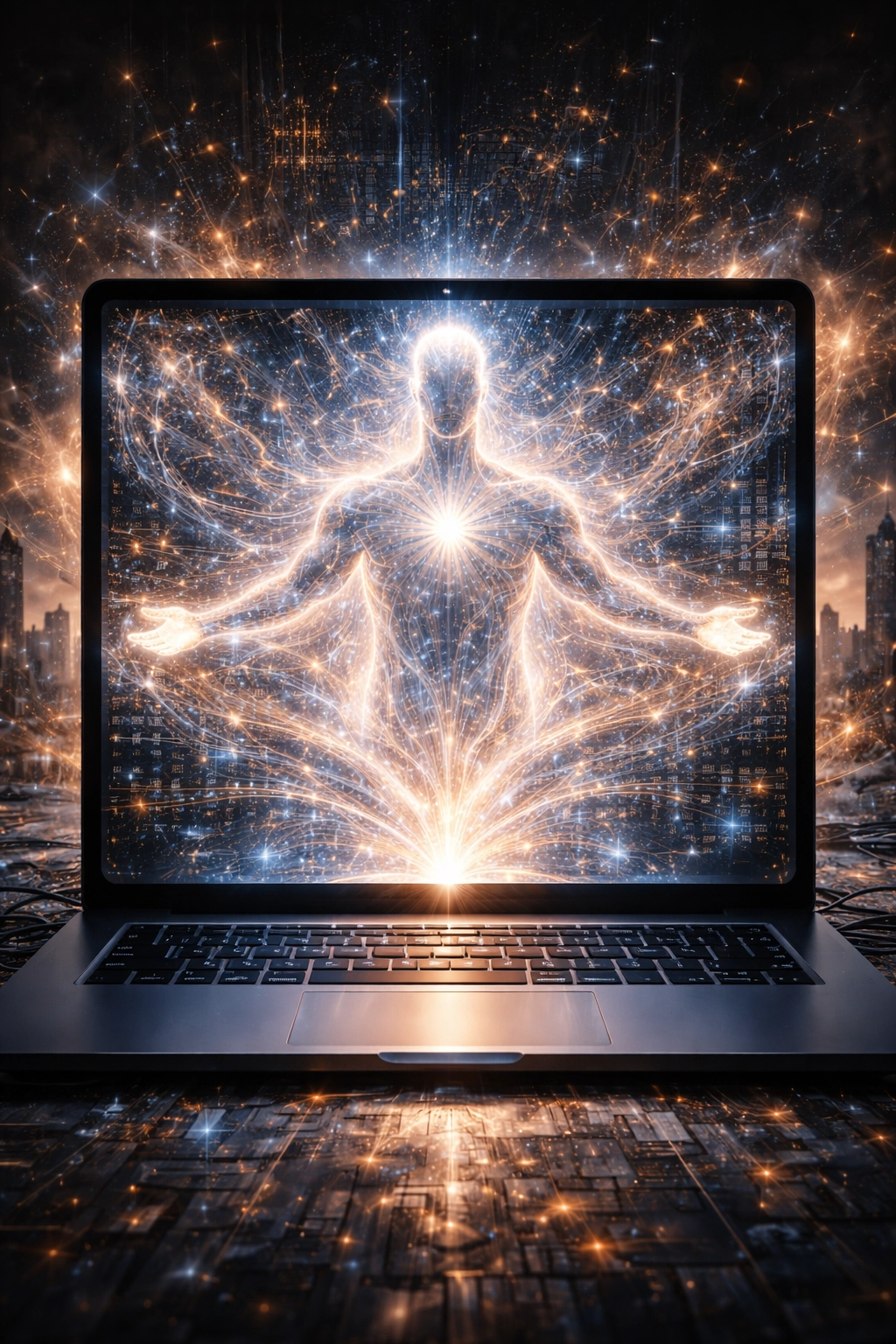Продолжение. Начало - https://tsepkalo.com/ru/publications/hi-tech-park-2-2/vospominania-o-budusem
Ильдар Даминов: Насколько я знаю, после отставки Станислава Шушкевича, вы перешли на работу…
Валерий Цепкало: ... в Исполком Содружества Независимых Государств в ранге старшего советника Исполнительного Секретаря. Этот период, хоть и был непродолжительным, но по-своему довольно интересным – мы организовывали встречи президентов, премьер-министров, профильных министров, готовили повестку их встреч. Все тогда происходило довольно дружественно, и хоть страны преимущественно занимались дележкой постсоветского наследия, атмосфера встреч была довольно доброжелательная, во многом даже неформальная. Я бы мог рассказать разные интересные случаи, но эта часть будет нерелевантна теме нашей беседы.
И.Д. – Хорошо, давайте вернемся к нашей теме. Финляндия наверняка не была единственной страной, сделавшей ставку на модернизацию в период кризиса?
В.Ц. – Конечно, нет! Когда я занимал должность первого заместителя министра иностранных дел, передо мной стояла задача не только продолжать сотрудничество в рамках СНГ, но и выстраивать отношения со странами дальней периферии. В Азии, Индии и на Ближнем Востоке я встречался не только с политиками, но и с учеными, бизнесменами, и с обычными людьми.
В то время уровень жизни в этих странах оставался достаточно низким — промышленность и технологии еще не были развиты так, как у нас. Однако меня поражала их колоссальная уверенность в завтрашнем дне. Эта атмосфера всеобщего оптимизма оставила у меня самое сильное впечатление. Люди были уверены: завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Они видели перемены буквально у себя на глазах. Ведь всего лишь за 25 лет - одно поколение — Сингапур превратился из страны портовых грузчиков в мировой финансовый центр.
Грамотное государственное управление, развитие человеческого потенциала, ставка на привлечение инвестиций, развитие высококачественной инфраструктуры и создание благоприятного делового климата позволили странам Юго-Восточной Азии преодолеть экономическую отсталость и выйти на уровень развитых стран Запада.
Малайзия: 30 лет назад ВВП этой страны составлял 45 миллиардов долларов и был сравним с белорусским. В 2024 году ВВП страны достиг 400 миллиардов долларов, что превышает белорусский почти в шесть раз. ВВП Сингапура 30 лет назад был ниже, чем у Беларуси. Сегодня он превышает 500 миллиардов долларов на страну с населением всего в 5 миллионов человек — это более чем в семь раз больше экономики Беларуси, у которой 9 миллионов жителей. Причем за 30 лет население Беларуси, несмотря на отсутствие войн, сократилось на 1,1 миллиона человек, хотя, в отличие от Сингапура, наша страна обладает значительными природными ресурсами.
Но вернемся в историю. Их оптимизм не только вдохновлял, но и создавал ощущение стабильности — но не в привычном нам понимании. Для них стабильность означала не отсутствие перемен, а, напротив, их постоянный поток, позволяющий двигать общество вперед. Это выражалось не только в росте зарплат и повышении уровня жизни, но прежде всего в улучшении условий труда — в переходе от низкоквалифицированных, физически тяжелых работ к высокотехнологичным профессиям: ИТ-инженерам, банкирам, научным исследователям. Этот оптимизм, основанный на стремительном развитии, вдохновлял людей куда сильнее, чем любые политические лозунги о «традиционных ценностях» и «духовных скрепах».
Конечно, такое развитие требовало принятия сложных политических решений. Как рассказывал мне лауреат Нобелевской премии по экономике Майкл Спенс, который консультировал правительство Республики Корея, для этого требовалась политическая воля. В 1980–90-е годы рост экономики Кореи во многом обеспечивался за счет легкой промышленности — значительная часть спортивной одежды и обуви для Европы и США производилась именно там. Это давало людям работу и стабильный доход. Вполне естественно, у политической элиты был соблазн сохранить этот путь, ведь он приносил успех.
Однако руководство Кореи приняло иное решение — двигаться к более наукоемким и технологичным отраслям. Легкая промышленность стала препятствием для развития: она удерживала значительную часть рабочей силы от переобучения и освоения новых профессий. Переключение на высокотехнологичные направления — машиностроение, микроэлектронику, судостроение, информационные технологии — обеспечило Корее прорыв.
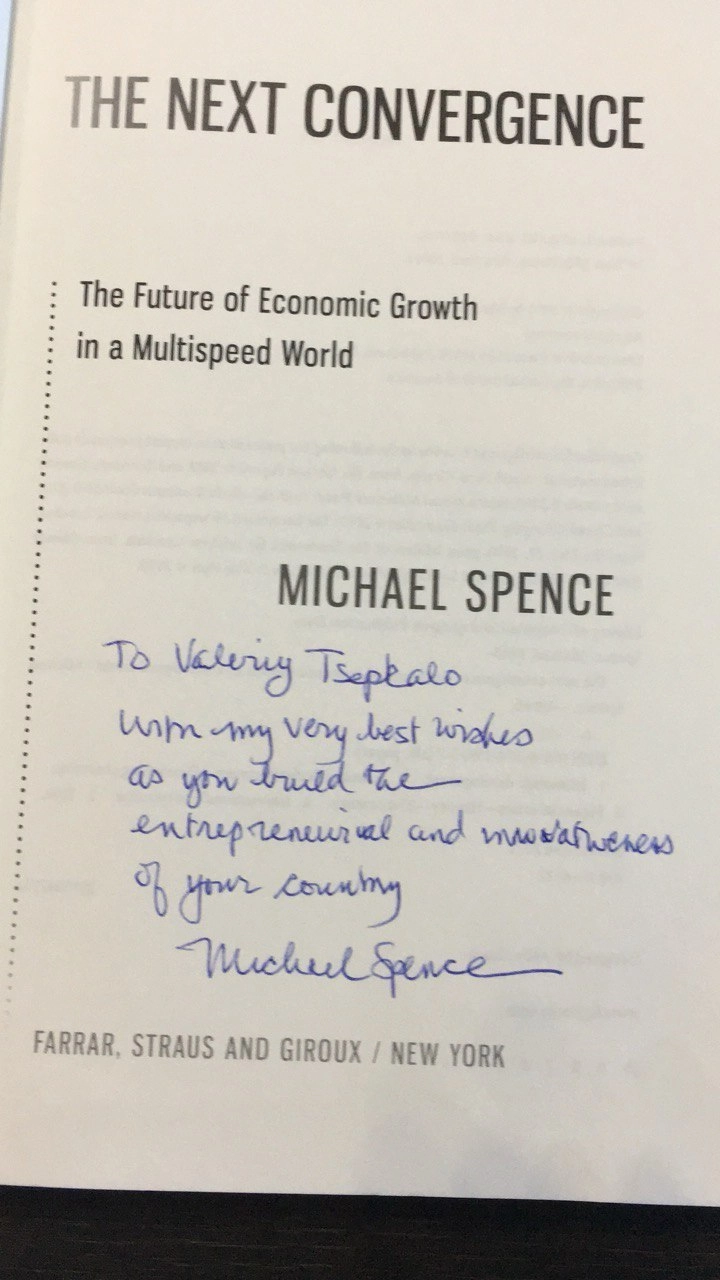
Довольно показательным стал пример Сингапура, где позднее по моей просьбе организовали семинар по управлению и строительству технопарков на базе Singapore Science Park, который специализировался на исследованиях и разработках для местных и международных ИТ-компаний. Там и не думали «спасать традиционные производства» – символы отсталости. На месте промышленного здания, где располагались текстильные производства, был запущен инновационный кластер LaunchPad, ставший центром стартап-экосистемы Сингапура, предоставляя пространство для более чем 100 стартапов, венчурных фондов и технологических инкубаторов.

Launch Pad Singapore
Однако наиболее знаковым шагом стало фактическое «выталкивание» завода Toyota из страны. Лидер Сингапура Ли Куан Ю посчитал, что сборочное производство не соответствует стратегическим целям государства, а рабочие руки и мозги должны быть задействованы более эффективно.
Почему я об этом говорю? Потому что в Беларуси происходило ровным счетом наоборот. Поддерживались отрасли, не имеющие рыночных перспектив — трудоемкие, энергоемкие, которые фактически консервировали отсталость и удерживали страну от развития. Достаточно вспомнить десятилетние попытки спасти мотовелозавод, в который вкладывались огромные деньги, несмотря на то, что в отличие от Азии с ее теплым климатом и высокой плотностью населения, в наших условиях спрос на мотоциклы и велосипеды всегда был минимальным.
Бесполезные финансовые вливания, которые можно было бы направить на поддержку образования или развитие инфраструктуры, уходили на «спасение» заводов «Горизонт», «Витязь», «Интеграл» и множества других, которые вместо того, чтобы пройти приватизацию и войти в состав крупных международных концернов, просто поглощали колоссальные финансовые и человеческие ресурсы без какой-либо перспективы на будущее.

Проходная завода Орджоникидзе, который неоднократно спасали бюджетными вливаниями.
И.Д. – Я понимаю, что для успешного развития технологических секторов нужна общая среда поддержки бизнеса. В своей докторской диссертации я буду делать основной упор на развитие технологических кластеров в странах с авторитарными режимами – эта тема станет ключевой в моей работе.
В.Ц. – Я бы все-таки разделил понятия авторитарной модернизации и развития технологических кластеров в условиях авторитаризма. Их общая черта – развитие технологических секторов в условиях ограничения политических свобод. Однако существуют и принципиальные различия. В первом случае речь идет о модернизации и экономическом развитии, инициированном государством и осуществляемом сверху.
В Южной Корее, например, государство не просто поддерживало бизнес, но и требовало от корпораций реинвестирования прибыли в высокотехнологичные отрасли. Мы помним пример финской Nokia, которая начинала с производства резиновых изделий, а затем перешла в производство мобильных телефонов. В Корее аналогичная трансформация бизнеса была возведена в ранг государственной политики: правительство не только помогало корпорациям, но и требовало от них вкладывать средства в перспективные отрасли. И результаты не заставили себя ждать.
Samsung, некогда занимавшаяся экспортом сушеной рыбы и лапши, а потом производством текстильной продукции, сначала ушел в строительство и судостроение, а позже – в производство электроники (телевизоров, затем мобильных телефонов) и чипов памяти. Hyundai из строительной компании превратилась в автопроизводителя, а позднее, учредив компанию Hynix, стал крупнейшим в мире производителем NAND-памяти и чипов, используемых в продукции Apple, Dell, HP, Lenovo и Sony.
Нам удалось привлечь эту компанию в ПВТ, где она занималась проектированием микросхем. Средняя зарплата нескольких сотен белорусских сотрудников составляла около 5000 долларов США, что резко контрастировало с доходами молодых инженеров на заводе "Интеграл". Этот завод, под политическим давлением, отказался от сделки с Motorola (которую я, кстати, вел в конце 90-х), получил около 30 миллионов долларов из бюджета на «модернизацию», однако сегодня зарплаты его молодых инженеров едва достигают 300 долларов.
Белорусское подразделение Hynix могло бы стать одним из ключевых для компании – у нее были планы увеличить численность сотрудников до нескольких тысяч, особенно после покупки у Intel бизнеса по производству чипов за 9 миллиардов долларов. Однако события после 2020 года привели к тому, что компания, как и сотни других, покинула Беларусь, уничтожив надежды на возрождение микроэлектронной промышленности страны.
Трансформация бизнеса затронула и LG, завод которой мы посещали. Изначально компания производила моющие средства и бюджетную уходовую косметику, а затем перешла к выпуску телевизоров, мобильных телефонов, холодильников и кондиционеров.
В Корее, естественно, развивались и технопарки, такие как Daedeok Innopolis. Этот кластер больше напомнил мне Академию Наук СССР, но с одним принципиальным отличием – здесь, помимо исследовательских институтов и конструкторских бюро, присутствовали лаборатории коммерческих корпораций в таких областях, как информационные и биотехнологии.
Особенно меня поразили амбиции Кореи в области биотехнологий. Они сделали серьезную ставку на производство косметических препаратов, открыв несколько институтов по изучению женьшеня и созданию на его основе кремов, лосьонов, зубных паст. Со временем это направление эволюционировало в разработку генетической косметики, адаптируемой под ДНК-анализ, производство пептидов, стволовых клеток, инновационных солнцезащитных фильтров и других передовых решений. В Daedeok была разработана технология многоканального кодового разделения (CDMA), ставшая основой мобильной связи 3G. Здесь также достигли значительных успехов в робототехнике – создании гуманоидных роботов, автономных дронов и медицинских систем для хирургии.
Тем не менее, в Корее технопарки не стали главными драйверами модернизации, в отличие от Тайваня, Сингапура, Китая и Индии.
Тайвань, например, изначально сделал ставку на специализированные технологические кластеры. Я дважды посещал Hsinchu Science Park, ставший центром производства микроэлектроники и ИТ-продукции. Здесь расположились такие технологические гиганты, как TSMC – крупнейший в мире производитель полупроводников, ASUS – один из ведущих производителей материнских плат, ноутбуков и смартфонов, Acer – один из крупнейших производителей ноутбуков и ПК, а также HTC – пионер в области смартфонов и VR-технологий дополненной реальности. Мы привлекли HTC в белорусский ПВТ, и благодаря этому Беларусь получила одну из самых сильных компетенций в Европе в области разработки ПО для мобильных устройств.

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing
Это примеры того, как государства создают благоприятные условия для развития инноваций и технологий – используя и мотивацию, и принуждение, как в Корее. Но в случае «авторитарной модернизации» Беларуси – это совсем другая история. Здесь Парк высоких технологий развивался в среде, враждебной для бизнеса.
И.Д. – Давайте остановимся на белорусском опыте отдельно. Вы упомянули Махатхира Мохаммада – фактически отца-основателя современной Малайзии, который за 21 год руководства страной сделал её одним из «азиатских тигров». При нём Малайзия совершила впечатляющий рывок в развитии! Как он реализовывал авторитарную модернизацию?
В.Ц. – Он предпринимал много интересных шагов, с которыми можно ознакомиться, в том числе в его книге «Путь вперед», которую я перевёл на русский язык, написал к ней предисловие и опубликовал в издательстве АСТ. Но вам, вероятно, будет интереснее то, о чем он рассказывал мне во время личных встреч.
Один из его самых амбициозных проектов – создание Киберджайи, технологического хаба, задуманного как аналог Силиконовой долины, куда планировалось привлечь ведущие мировые компании и создать инновационную экосистему. Чтобы подчеркнуть серьёзность своих намерений и продемонстрировать мировому бизнесу приоритет правительства, он разместил Киберджайю рядом с новой столицей Путраджаей, перенесённой в 20 км от Куала-Лумпура для разгрузки города.
Для того чтобы привлечь в страну ведущие компании, он решил построить суперсовременные здания и… фактически подарить их в собственность тем, кто примет решение разместиться в Киберджае. Он объяснял это так: «Построить офисные здания может любая страна – ничего сложного в этом нет. А вот сделать так, чтобы эти здания стали центрами передовых технологий, – это уже совершенно другой уровень».

Cyberjaya Malaysia
Его модель заключалась в следующем: компании, которые приходили и размещали там сотрудников, платили только за коммунальные услуги. Через 20 лет здание передавалось в их собственность. За это время такие компании, как Microsoft, Motorola, IBM, открывали учебные центры в университетах, обучали и нанимали местный персонал и уже не могли просто уйти с рынка или продать здание, потому что глубоко вросли в местную бизнес-среду и потому продолжали пользоваться подаренной им инфраструктурой.
К слову, я предложил доктору Махатхиру войти в состав Международного консультативного совета Парка высоких технологий, и он долгое время оставался для нас своего рода визитной карточкой – как фигура, пользующаяся огромным уважением в Азии.

С доктором Махатхиром Мохамадом.
И.Д. – Беларусь могла бы использовать подобную стратегию?
В.Ц. – Честно говоря, о таких условиях для технологического бизнеса мы не могли и мечтать. Изначально я боролся за то, чтобы разместить ПВТ рядом с Национальной библиотекой. Во-первых, там было метро, что создавало удобство для студентов – они могли бы легко приезжать в офисы компаний для работы, а сотрудники компаний – быстро добираться до университетов для чтения лекций в лабораториях.
Во-вторых, мне казалось, что архитектурно выразительный проект на въезде в город привлекал бы внимание потенциальных инвесторов, в том числе бизнесменов, приезжающих в Минск. Например, Стив Балмер, президент Microsoft, чьи родители были родом из Беларуси, посетил страну просто ради могил предков. То есть эффектная архитектурная композиция на въезде в Минск стала бы не только эстетическим объектом, но и «живой рекламой» технологического уровня развития страны, вызывая интерес своим содержанием.
Ну и, наконец, библиотека получила бы новый импульс: она могла бы стать площадкой для проведения семинаров, конференций, митапов, служить центром притяжения интеллектуальной элиты страны, а не просто оставаться депозитарием печатных книг и периодических изданий.
Однако на этот участок уже претендовали сербы Каричи, которым внешний облик Минска, да и Беларуси в целом, был совершенно безразличен, но которые смогли убедить лиц, принимающих решения, в возможности хорошего заработка. В итоге мы получили не самый лучший участок с инвестиционной точки зрения – там находились недостроенные и пришедшие в негодность здания Академии наук Беларуси, а также городская свалка снега.
И.Д. – Застройке территории ПВТ заслуживает более подробного разговора, поэтому давайте вернемся к нашему повествованию. Делясь впечатлениями от Азии, Вы описывали атмосферу энергетики и оптимизма, которая там царила. Но мы знаем, что не все и не всегда там проходило гладко. В Корее показывали постоянные жесткие столкновения студентов с полицией, в Китае мы все помним трагические события на Тяньаньмэне.
В.Ц. – Действительно, в Южной Корее в 1980-е студенческие волнения происходили повсеместно. В те годы правительство Чон Ду Хвана жестко подавляло протесты. Однако именно рост среднего класса в стране и требование большей прозрачности в управлении привели к демократическим реформам в Корее в начале 1990-х годов, а студенческое движение стало ключевым фактором демократизации страны.
Экономический рост в Китае, начавшийся с реформ Дэн Сяопина, создал новое поколение молодежи, которая хотела не только материального благополучия, но и политических изменений. Это вылилось в события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, которые стали серьезным вызовом для китайского руководства. Однако, несмотря на это, Китай не остановился и продолжил модернизацию, сделав ставку на развитие технологий и рыночные реформы. Но об этом мы уже говорили выше.
Экономический рост приводит к появлению новых средних слоев, которые хотят участия в политической жизни. Зачастую они требуют и перераспределения собственности, что часто выражается и в проявлениях ксенофобии, как это происходило в Индонезии и Малайзии в отношении этнических китайцев.
И.Д. – Вы считаете ксенофобию одним из побочных явлений развития? Почему так происходит? Ведь, наоборот, увеличение «национального пирога» должно создавать условия для межэтнического и межконфессионального мира.
В.Ц. – В конечном счёте, так оно и происходит. Однако развитие всегда сопряжено с вызовами. В те годы в Азии существовали сильные антикитайские настроения, сравнимые по своему характеру с антисемитскими проявлениями в Европе 1930-х годов. Это происходило на фоне роста национального производственного капитала, который начинал конкурировать с транснациональным.
Китайцы в Азии традиционно занимали сильные экономические позиции, контролируя значительные сегменты торговли и предпринимательства, подобно тому, как в довоенной Европе, да и в Америке, банковская, финансовая и торговая сферы во многом находились под влиянием еврейских кругов.
Так сложилось исторически. Здесь дело не только в том, что бизнес доверял больше своим, а евреи Англии, Германии и Франции были зачастую ближе друг другу, чем, скажем, немец и еврей Германии, или китайцы Таиланда, Индонезии и Малайзии были ближе друг другу, чем китайцы Таиланда и тайцы. Дело даже не в том, что евреев в Европе и китайцев хуацяо в Азии не допускали к политике и многим другим сферам деятельности, вынуждая их сосредотачиваться в бизнесе.
Важно понимать, что экономическое доминирование меньшинств во многом объясняется особенностями политической системы. Зачастую власть предержащие предпочитали передавать деликатные финансовые и торговые полномочия именно представителям национальных меньшинств. Почему? Потому что такие группы, не обладая, говоря современным языком, «электоральными перспективами», не рассматривались как политические конкуренты. Им можно было доверить управление финансами, не опасаясь, что эти средства впоследствии будут использованы для политической борьбы. Это логика, при которой власть минимизировала риски появления новых центров силы внутри основной этнической группы.
С китайцами в Малайзии мирно сосуществовали до тех пор, пока не начались процессы демократизации. Ли Куан Ю был близок к тому, чтобы возглавить не только провинцию Сингапур, но и всю Малайзийскую Федерацию. Однако рост политического влияния китайских диаспор вызвал в стране антикитайские настроения, что в конечном итоге привело к исключению Сингапура из федерации. Полагали, что без собственных ресурсов, даже пресной воды, город-государство окажется обречённым. Однако, как известно, Сингапур не только выжил, но и превратился в один из ведущих экономических центров мира.
В период модернизации национальные элиты, обретая экономическую независимость, начинали воспринимать доминирование этнических меньшинств как несправедливость. Они стремились перераспределить ресурсы в пользу титульного этноса, что зачастую вело к ксенофобии. Но к счастью, Сингапур как "китайская резервация" было куда более гуманным решением, чем создание еврейских гетто в Европе.
Однако несмотря на эксцессы развития, на длинной дистанции, по мере роста экономики, представители национального капитала, богатея, вступали во все более тесное сотрудничество с этническими меньшинствами, пока в конечном итоге не устанавливался баланс, устраивающий обе стороны.
Это на самом деле общемировой тренд, который никак не связан с временными интервалами или географией. Вспомним хотя бы историю Генри Форда в США, который атаковал еврейский финансовый капитал, но лишь до тех пор, пока его бизнес не развился. В начале своей карьеры он рассматривал финансовые элиты как угрозу независимости своего предприятия, но со временем, когда его компания окрепла, он пересмотрел свою позицию и начал сотрудничать с теми, кого ранее критиковал.
Пример моего друга Вонга, этнического китайца, живущего в Малайзии, также иллюстрирует эту динамику. Он владеет компанией-дилером эксклюзивных автомобилей и нашёл баланс интересов, вступив в брак с этнической малайкой, что избавило его от необходимости нанимать малайского директора. Это пример того, как в условиях сложной системы этнических отношений предприниматели адаптируются, находя пути гармонизации своих бизнес-интересов с местными законами и традициями.
И.Д. – Как Вы сравниваете в этом плане межэтнических отношений модели в этих европейских и азиатских стран?
В.Ц. – Хотел бы отметить, что ослабление политического и экономического влияния евреев в Европе было связано не столько с Холокостом, сколько с созданием национального государства, на что была перенаправлена энергия еврейского этноса. На строительство Израиля – фактически с нуля, в пустыне – устремилась наиболее активная и пассионарная часть этого народа, готовая пройти через войны, тяжелый труд и другие испытания ради реализации идеи собственного государства.
Эта история чем-то напоминает судьбу Сингапура (а скорее наоборот – история Сингапура в чем-то напоминает историю Израиля). Оба государства столкнулись с нехваткой природных ресурсов, сложным климатом и постоянными внешнеполитическими угрозами: Израиль – в окружении враждебных арабских государств, Сингапур – находясь между недружественной Малайзией, которая только что вышвырнула его из своего состава, и огромной Индонезией, где вовсю шли антикитайские погромы. Однако оба государства не только выжили, сделав ставку на науку, технологии и инновации, но и сумели создать одни из самых передовых экономик мира.
Их близость проявлялась даже в построении вооружённых сил. Вдохновлённый успехом еврейского государства в «Шестидневной войне», Сингапур пригласил израильских военных советников для создания собственной армии. Одной из ключевых фигур в этом процессе был выходец из Беларуси Шимон Перес, который на тот момент занимал пост заместителя министра обороны Израиля.
Мне довелось встречаться с ним дважды: первый раз – в МИДе Беларуси, в Минске, когда он приезжал, чтобы посетить свой родной город Воложин, где прожил до 15 лет (тогда его звали Семён Перский), и второй – во время его официального визита в Вашингтон в начале 2000-х, когда я работал там послом. Во второй раз у нас состоялась с ним продолжительная беседа, которая, впрочем, не имела отношения к теме нашей беседы.
В то время как Малайзия и Индонезия официально не признавали Израиль и даже не пускали израильтян на свою территорию, Сингапур, несмотря на давление двух геополитических гигантов, пошёл на сотрудничество, понимая, что без сильной армии его существование окажется под угрозой. Но дело было не только в прагматизме – это было ещё и чувство родства судеб двух государств, рожденных как ответ на этнические преследования.
Несмотря на различие в подходах – Израиль строился как национальное государство, объединённое общей историей и религией, а Сингапур вынужден был искать модель сосуществования разных этнических и культурных групп – их объединяло главное: они доказали, что отсутствие природных ресурсов и сложное геополитическое положение не являются приговором, если делать ставку на интеллект, инновации и стратегическое мышление.
Почему мы заговорили об этом? Разве их тяжелый исторический опыт не может вдохновлять? Беларусь, несмотря на свое положение между крупными странами, может и должна, подобно Израилю или Сингапуру, найти собственную модель развития — такую, которая укрепит государственность и превратит ее в процветающую страну, достойную подражания.
Продолжение следует.