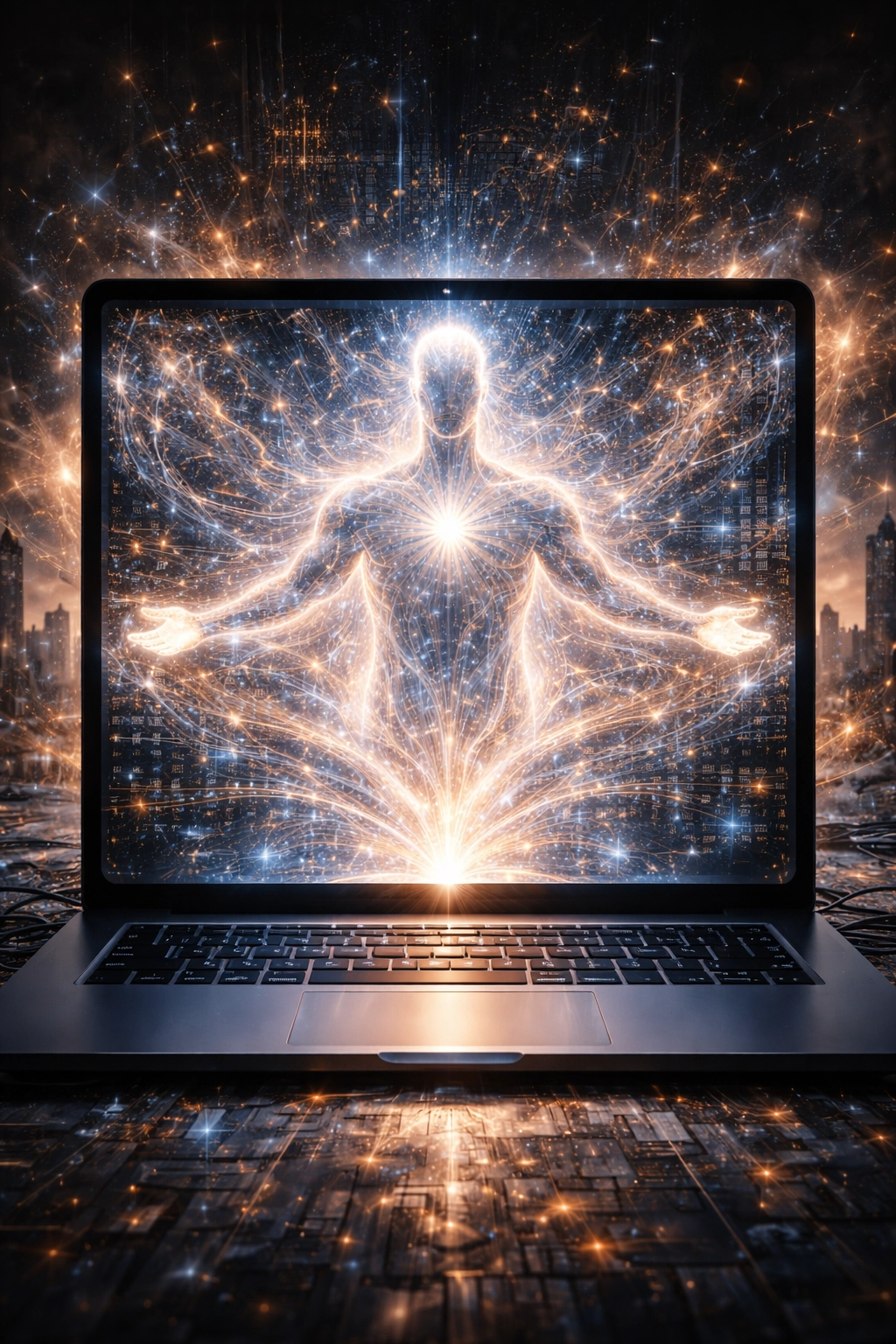Продолжение.
Начало - https://tsepkalo.com/ru/publications/hi-tech-park-2-2/vospominania-o-budusem
https://tsepkalo.com/ru/publications/technology-2/park-vysokih-tehnologij-prodolzenie
И.Д. – Говоря о развитии технопарков, нельзя не упомянуть Индию. Всё-таки эта страна во многом ассоциируется с индустрией разработки программного обеспечения… Так называемый ИТ-аутсорсинг появился именно там!
В.Ц. – Впервые я воочию увидел технопарк именно в Индии. В далёком 1995 году я впервые посетил эту страну с целью налаживания дипломатических отношений, и индусы, возможно, чтобы произвести впечатление, включили в программу моего визита посещение технопарка. На тот момент он был ещё довольно примитивным с точки зрения строительных технологий, но в окружении хаоса, грязи и антисанитарии выглядел как оазис в пустыне. Огороженная территория, невысокая плотность застройки, кондиционированные помещения, ухоженные газоны, где свободно гуляли павлины – всё это резко контрастировало с перенаселённой и бедной обстановкой за забором.
Именно там, фактически в офисе американской компании – по-моему, Texas Instruments или General Electric – индийские инженеры вели разработки. Это был один из первых примеров удалённой работы. В то время интернета ещё не было, и для передачи результатов использовались магнитные ленты либо диски, которые отправляли курьерами, а также факсы, по которым пересылали распечатанные листы кода. Процесс был медленным и затратным, но уже тогда закладывался фундамент будущей цифровой революции в сфере аутсорсинга.
Мой интерес к этой теме ожил лет через пять, во время официального визита премьер-министра Индии Ваджпаи в США в 2000 году. Все американские газеты буквально гудели, потому как появилась информация о том, что экспорт индийского программного обеспечения в США достиг 3 миллиардов долларов. Это была сумма, сопоставимая с российским экспортом вооружения, репутация которого к слову была куда выше, чем сегодня.
Это достижение индийской ИТ индустрии казалось еще более значимым, так как по сравнению с оружейной индустрией, требующей колоссальных затрат на электроэнергию, дорогие металлы и сложное оборудование для производства, ИТ-сфера не требует никаких материальных затрат. Для ее развития требуется лишь правильно построенная экосистема, при которой продаются нематериальные вещи - идеи, компетенции и знания.
Примерно в это же время вышла книга двух профессоров из МГУ, детально анализировавшая опыт Индии по созданию технологических парков с 1980 по 2000 год. Эта книга стала для нас одним из важнейших пособий по развитию индустрии программного обеспечения, поскольку подробно описывала шаги индийского руководства: от предоставления налоговых льгот до строительства инфраструктуры.
После визита Ваджпаи в США в 2000 году многие американские компании устремились в Индию, увидев потенциал местных специалистов. Причём это касалось не только разработки ПО – возник спрос на самые разные услуги: бухгалтерский учёт, колл-центры, медицинские сервисы. Например, американскому пациенту делали кардиограмму или флюорографию, отправляли её в Индию, где местный врач ставил диагноз, а американский специалист лишь проверял правильность заключения и назначал лечение.
Некоторые критики называли это новой формой удалённой эксплуатации, но на самом деле это дало Индии возможность учиться и развивать компетенции. Индийские специалисты, выполняя заказы западных компаний, перенимали передовые технологии, методы управления проектами и лучшие практики разработки программного обеспечения. Впоследствии появились собственные компании, которые предлагали не только аутсорсинг, но и свои программные продукты, выходя на мировой рынок. Так зародилась мощная индустрия, ставшая одним из ключевых экономических драйверов страны, ежегодный экспорт которой сегодня составляет 200 миллиардов долларов.
Забегая немного вперёд, скажу, что совместно с правительством Индии мы создали белорусско-индийский образовательный центр имени Раджива Ганди - индийского государственного деятеля, который модернизировал индийскую экономику и сферу информационных технологий. Этот центр готовил белорусских преподавателей в Индии, которые затем, вернувшись в Беларусь, обучали уже наших специалистов.

Открытие белорусско-индийского образовательного центра, на фото министр информационных технологий Сачин Пилот
Но вернёмся к Индии. Осознав потенциал ИТ-отрасли, руководство страны стало активно способствовать её развитию. Оно предоставило дополнителные налоговые льготы, упростило процесс регистрации компаний и стало активно вкладываться в создание специализированных технологических кластеров. В результате Индия превратилась в мирового лидера в области ИТ-аутсорсинга. Он стал для страны не просто источником дохода, но и катализатором экономического развития, а их компании стали глобальными игроками, работающими с крупнейшими корпорациями мира.
Опыт Индии был для меня вдохновляющим. Ведь после распада СССР и серьёзнейшего кризиса наши программисты фактически ушли из индустрии – внутренней потребности в специалистах почти не осталось. Исключение составлял, пожалуй, только «Агат Системс», работавший по военно-технической тематике под руководством Николая Азаматова, сумевшего спасти коллектив, получив заказы на Ближнем Востоке. Но это было каплей в море. Белорусские программисты ушли в другие профессии – становились торговцами, занимались ремонтом, работали кровельщиками на стройках.
Моё глубокое убеждение заключалось в том, что наши люди не менее талантливы, чем американцы, англичане, немцы, французы или другие успешные народы Земли. Просто им нужно было создать условия, позволяющие раскрыть их потенциал.
Ведь человеческое общество – это особая экосистема. Если в ней соблюдаются законы, где человек ощущает, что в стране царит справедливость, он начинает развиваться, раскрывает свои способности и помогает развитию других. Если же система его подавляет, унижает, оскорбляет, не считается с его достоинством, если в обществе царит волюнтаризм и насилие, начинается его трансформация в другую сторону - его уровень развития падает, мышление упрощается, поведение примитивизируется.
Как говорится, «с волками жить – по-волчьи выть». Маугли красив только в сказке. На самом деле, дети, попавшие в животную среду и копируя модели поведения животного стада, утрачивают человеческий облик и .
Наглядный пример – Сирия. Людей там преследовали по самым малозначительным поводам, бросали в тюрьмы, пытали, избивали. Они восприняли ту же модель поведения и, как только изменились условия, – ответили тем же. Их ответом на насилие было такое же насилие. Наиболее "отличившихся", кто не успел сесть в самолет вместе с Асадом, подвергли таким же актам «правосудия», которые они до этого практиковали сами – кого-то повесили на рее, кого-то закидали камнями, кого-то в буквальном смысле разорвали на части…
То же самое и с экономическим климатом. Если в стране здоровая предпринимательская среда, поддержка инноваций и честные правила игры – бизнес развивается, создаются новые рабочие места, люди учатся, растут профессионально, создают компании. Параллельно растут зарплаты, увеличиваются доходы. Но если доминируют бюрократия, коррупция, если на бизнес наседают проверяющие органы, отжимают предприятия, предоставляются преференции "своим" за счет дискриминации всех остальных – люди беднеют, бизнесы не развиваются, таланты либо эмигрируют, либо исчезают, опускаясь до уровня примитивной деятельности и фактически деградируют до уровня экономических инстинктов, ориентированных лишь на базовые человеческие потребности – пропитание и крышу над головой.
И.Д. – Когда мы говорим об образовании, мы часто имеем в виду среднее или высшее образование, при этом часто упуская из виду различные курсы по повышению квалификации и переподготовке специалистов. Какую роль они сыграли в Индии и в других развивающихся странах?
В.Ц. – Действительно, Индия стала мировым лидером в сфере информационных технологий во многом благодаря системе профессиональной подготовки и переквалификации. Правительство запустило программу National Skill Development Corporation (NSDC), основанную на государственно-частном партнёрстве и ориентированную на массовую подготовку кадров для различных отраслей. Такие компании, как Infosys, Wipro, Tata Consulting, также инвестировали миллионы долларов в корпоративное обучение программистов и инженеров. В последние годы активно стало развиваться онлайн-обучение. В результате экспорт услуг индийских IT-компаний превысил 200 миллиардов долларов.
В Израиле государство также принимает активное участие в технологическом образовании. Особенно интересен опыт 90-х годов, когда после распада СССР в страну прибыло около 1 миллиона советских эмигрантов. Среди них было около 15 тысяч учёных, многие из которых работали в закрытых конструкторских бюро.
Израиль учредил Офис Главного учёного (Chief Scientist Office), который занимался распределением государственных грантов на развитие науки, технологий и инноваций. Однако, несмотря на сотни миллионов долларов инвестиций, большинство проектов не имели коммерческого успеха, хотя социальный эффект – трудоустройство крупных советских учёных – отрицать, конечно, нельзя.
Мне запомнились лишь два проекта, выполненных учёными из СССР: один – по переработке мусора, основанный на гидросепарации (отделение отходов водой), а второй – по разработке гироскопов для израильских танков, которые позволяли удерживать снаряд в горизонтальном положении при движении по пересечённой местности, обеспечивая высокую точность стрельбы на ходу. Вёл проект бывший сотрудник ленинградского КБ, занимавшийся когда-то такой же тематикой, но для стабилизации подводных лодок.
Но настоящий технологический прорыв Израиля обеспечил не Офис Главного учёного, как полагают многие. Главную роль в технологическом лидерстве Израиля сыграла массовая подготовка и переподготовка кадров.
В определённом смысле это была вынужденная мера. Когда около миллиона советских эмигрантов приехало в Израиль, эта страна оставалась преимущественно сельскохозяйственной. Однако такое количество людей кибуцы поглотить не могли. Большинство приезжих обладали квалификацией, которая не находила применения в новых условиях. Например, мой приятель, с которым я вместе проучился два курса в Белорусском технологическом институте, легко нашёл работу, поскольку его специальность — «Машины и оборудование предприятий строительных изделий и конструкций» — была востребована при строительстве новых поселений. Но что было делать с учителями, бухгалтерами, историками, представителями других профессий?
И тогда государство принимает решение запустить программу «Ваучер». В соответствии с этой программой любой мигрант мог выбрать образовательный центр и бесплатно пройти курсы переподготовки. Наиболее известным центром стал John Bryce, основанный бывшим израильским военным. Благодаря этой инициативе около 500 000 советских эмигрантов получили новые знания и навыки, что значительно укрепило человеческий капитал страны.
Не менее важную роль сыграла программа Talpiot, запущенная в армии для обучения солдат и сержантов срочной службы высоким технологиям. В рамках этой программы спобобные новобранцы проходили углублённое техническое обучение и участвовали в разработке новых технологий. После завершения службы их буквально у ворот воинской части встречали представители ведущих технологических компаний с предложениями о трудоустройстве. Таким образом, военная служба в Израиле не сводилась просто к моршам на плацу и покраске заборов, а становилась важнейшим образовательным опытом.
Выпускники этих курсов стали востребованными специалистами для ведущих мировых технологических компаний. В начале 1990-х годов в Израиль пришли Microsoft, Cisco, значительно увеличили своё присутствие IBM, Intel, Motorola, HP, Sun Microsystems и другие высокотехнологичные компании. Израиль оказался готов к приходу глобальных технологических корпораций, предоставив им квалифицированные кадры, способные работать в инновационной среде.
Это как улица со встречным движением: с одной стороны, государство и частные образовательные инициативы активно готовили специалистов, а с другой — технологические компании, привлекаясь этим потенциалом, создают рабочие места, финансируют исследования и стимулируют дальнейшее развитие экосистемы.
В результате, накапливая технический и управленческий опыт, израильтяне начали создавать собственные компании. В результате сегодня Израиль занимает первое место в мире по количеству стартапов на душу населения. Причём этот процесс не прекратился даже в условиях войны. В 2024 году израильские стартапы привлекли 16 миллиардов долларов инвестиций, что демонстрирует долгосрочное доверие инвесторов к стране. Для сравнения, это равно годовому бюджету Республики Беларусь — страны, сопоставимой с Израилем по численности населения, но обладающей куда большими природными ресурсами.
Общий экспорт израильских высокотехнологичных продуктов составляет 75 миллиардов долларов, а военной техники — 13 миллиардов. В этих условиях Офис Главного учёного (Chief Scientist Office) также скорректировал свою политику, сосредоточившись на развитии технопарков, инкубаторов и стартапов, поскольку именно в них рождаются основные инновации страны.
Несмотря на враждебное окружение и сложные природные условия, Израиль сумел превратить пустыню в процветающую страну. Он не только построил передовую систему сельского хозяйства (израильский аграрный экспорт сегодня составляет 5 миллиардов долларов, и это в условиях пустынного климата), но и создал мощную армию и высокотехнологичную экономику. Всё это стало возможным благодаря инвестициям в образование и подготовку кадров, что стало основой успеха Израиля в глобальной технологической гонке.
Хотел бы отметить, что именно израильский опыт, в большей степени чем индийский, служил для нас ориентиром. В Индии технопарки — это территориально ограниченные зоны, в то время как в Израиле вся страна стала технологической экосистемой. Конечно, инфраструктура важна, но она не обязательно должна быть сосредоточена в отдельно выделенных кластерах. Потому мы выбрали принцип экстерриториальности - я хотел видеть всю страну - территорией Парка высоких технологий.
И мы, как Израиль, фактически начинали с аутсорсинга и центров компетенций. Но набравшись технического и управленческого опыта, белорусы стали продуктовые компании, основанные на реализации собственных идей. И если бы инвесторы доверяли стране, Беларусь могла бы не только быть местом зарождения передовых идей и стартапов, но и площадкой для их дальнейшего роста, без необходимости ухода в другие юрисдикции.
На самом деле все страны, чей опыт мы учитывали, демонстрировали схожую стратегию. В Сингапуре правительство ещё в 90-е годы осознало необходимость массового перевода экономики в сферу технологий. Там была запущена программа SkillsFuture, финансирующая обучение взрослых в области IT, инженерии и цифровых технологий.
Причём лидер страны показывал личный пример. Когда стали активно внедряться персональные компьютеры и появился интернет, лидер Сингапура Ли Куан Ю нашёл себе преподавателя, неделю интенсивно занимался с ним изучением основ IT, открыл себе электронную почту, а затем собрал правительство и заявил примерно следующее: «Я старше вас и научился за неделю пользоваться программами на персональном компьютере. Вам даю две недели». Ты не можешь что-то требовать от других, если сам не понимаешь, как это работает.
Таким образом, успех этих стран показывает, что сочетание инвестиций в образование, налоговых стимулов и стратегического видения позволяет даже некогда отсталым государствам стать технологическими лидерами. Израиль, Индия, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Корея и, наконец, Китай доказали, что грамотная образовательная политика и поддержка индустрии инноваций могут радикально изменить экономический ландшафт страны.
Пример этих стран показал, что не существует наций и народов, обречённых на вечное отставание и бедность. Стоило лишь государству выстроить соответствующую систему поддержки людей — или, говоря богословским языком, дать возможность загореться божественной искре в каждом человеке — как люди стали развиваться интеллектуально.
И вот, в результате индусы, некогда самые бедные и отсталые, руководят крупнейшими компаниях мира. В IT-секторе — это Google, Microsoft, IBM, Adobe, MasterCard, в биотехнологиях - Novartis, Pfizer. Даже Nvidia, самая дорогая компания в мире, основана Дженсеном Хуаном (Jensen Huang), который, хоть и имеет тайваньское происхождение, на самом деле происходит из индийской семьи.
И белорусы совсем не обязательно должны быть бедными и забитыми – они могут быть успешными и процветающими. И пример Парка высоких технологий это показал. При создании правильной экосистемы, где людей поддерживают и вкладывают в их образование, они способны раскрывать свой потенциал.
Пока нам удавалось ограждать индустрию от контроля, проверок и вымогательства – наше развитие шло колоссальными темпами. За 15 лет объём отрасли достиг 3 миллиардов долларов (Индии для этого потребовалось 20 лет). Но как только пошли аресты айтишников и их стали преследовать по политическим мотивам – отрасль, которая некогда развивалась на зависть всему миру, начала деградировать.
Об этом мы подробнее и поговорим.
Продолжение следует.